«– Что же ты мне сделаешь, когда я терпеть не могу жидов, – вся раскрасневшись, перебила ее своим хриплым басом мадам Гензеншмальц. – Из-за них мне никогда покою нет. Нельзя улицы пройти без того, чтобы все не указывали: жидовка, жидовка. Из-за этих жидов и из Москвы нас выгнали. А там у нас такое хорошее, все благородное общество было.»
«Так вот она, Одесса-то, – подумал реб Хаим-Шулим...»
«Главное забыл! Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем?»
ПИСЬМА НА ВЕТЕР
Письмо второе
(в сокращении)
Бен-АМИ
Очутился я на днях в Английском саду1 и там присел на скамейке под почти оголенным вязом. Передо мной расстилалась одна из тех прекрасных картин природы, глядя на которые думаешь: неужели я все это вижу в самом деле своими собственными материальными взорами? Темно-голубые воды озера на этот раз казались еще темнее, и неподвижно, словно застывшая масса какого-то металла, стояла их гладкая зеркальная поверхность. Это чудно-прекрасная поверхность окаймлялась, словно огромною бахромою, цепью Юры, покрытой свежим, ослепительной белизны снегом. Чудная картина, вставленная в еще более чудную раму! Я однако рассеянно взглянул на эту грандиозную красоту и погрузился в свои мрачные думы.
«Мрачные думы», сказал я. Но не будет ли это тавтологиею? Не будет ли это то же, что сказать: «темная темнота», «огненный огонь», «растоптанный и оплеванный русский еврей» и т. д.? Ведь точно так же, как все эти перечисленные существительные непременно подразумевают напрасно повторяемые прилагательные, точно так же и слово «дума» влечет за собою непременно определение «мрачные». Какая же дума, если не мрачная, может быть у русского еврея в настоящее время, если у него под ребрами бьется действительно сердце, которое ему еще не удалось променять на мешок пшеницы или кукурузы. <…>
Об этом, собственно, и думал я тогда, сидя под оголенным вязом. <…>
Вдруг что-то сильно зазвенело вокруг меня; я словно пробудился и поднял голову. Но что за черт!
Ведь сел же я в Английском саду, у самого берега озера – это я прекрасно помню. Как же я очутился вдруг перед витриной магазина золотых и бриллиантовых изделий? А что передо мною витрина именно этого магазина, в этом я не могу ни на минуту усомниться. Вот целая куча золота и бриллиантов, тщательно развешанных для приманки прохожих. Что же все это значит?
Очень просто, решил я, наконец: я вероятно, до того погрузился в свои мысли, что и не заметил, как очутился на Grand Quai2 . Вопрос о том, как же я сижу, между тем как между витринами скамеек вовсе не полагается, мне и в голову не приходил в данную минуту. Я уже окончательно было утвердился в этой мысли, как вдруг витрина задвигалась, направляясь прямо ко мне, и грузно опустилась на скамейку. То, что я принял за витрину, оказалось полновесною дамою, бюст и руки которой были увешаны страшным количеством золотых и бриллиантовых вещей, что и ввело меня в такое заблуждение.
Несмотря на быстро наступавшую темноту, я вынул из кармана полученный мною в тот день номер «Нед. Хрон», чтением которой хотел заняться. Как только раскрыл я газету, витрина круто повернулась ко мне, причем весь висевший на ней товар пришел в движение и зазвенел.
– Ах, вы русский! – обратилась она ко мне с радостным восклицанием.
– Нет, – ответил я, – я – еврей.
– Разве это не все равно? – возразила витрина, слегка покачивая свое тучное тело.
– Нет, далеко не все равно, – настаивал я.
– Какая же разница?
– Гм, какая разница, это слишком сложный вопрос, и, чтобы ответить на него, надо уйти далеко в глубь истории, начав с того периода, когда...
– Теперь нет никакой разницы, – перебила меня витрина. – Прежде евреи не кушали колбасы, не кушали раков, а теперь у меня каждый день за столом поросенки и раки.
Я словно слетел вниз головой с длинного периода, который был уже у меня готов, и очутился в помойной яме. Этих нескольких слов было для меня совершенно достаточно, чтобы предо мною ясно, со всеми отвратительными подробностями, предстала не только заговорившая со мной особа, но и целая жизнь десятков тысяч нового, народившегося среди евреев типа.

– Как, – начал я, – вы говорите, что у вас каждый день поросенки и раки. Чего же тут удивительного, когда вы русская.
<…> Витрина от моих слов чуть не растаяла вместе со всем своим грузом.
– Чтобы вы мне жили! – сказала она, превратившись в одну сладостную улыбку. – Так меня совсем невозможно узнать? Мне это говорит постоянно наш близкий приятель, важный начальник, который уверял, что я совсем на еврейку не похожа.
– Так вы еврейка? – воскликнул я, словно еще не веря.
– Да, – ответила она тихо. – Только, пожалуйста, не говорите никому, это я только вам сказала, потому что вы хороший молодой человек, это я сейчас же заметила. Заходите, пожалуйста, к нам чай пить. – При этом она мне подала свою карточку. Поднесши ее к фонарю, я прочел: Аграфена Феофилактовна Гензеншмальц. Снизу был написан адрес. Я поблагодарил и обещал непременно зайти.
На другой день, ровно в пять часов, я поднялся по широкой роскошной мраморной лестнице на первый этаж одного из лучших домов самой аристократической улицы в Женеве. Чистенькая, опрятно одетая, с миловидным личиком бонна-савоярка отворила мне дверь и ввела в роскошно убранную столовую, которая до того ослепила меня своей богатой обстановкой, что я не на шутку оробел, так оробел, что остановился у дверей, не решаясь идти дальше. В это время раздался жирный, хриплый голос госпожи Гензеншмальц, радостно меня приветствовавшей из-за целой кучи тарелок, наполненных всякими яствами.
Я приободрился и подошел к столу, где восседала хозяйка, имея направо и налево от себя по несколько детей обоего пола, до того тощих и зеленых, что они в одно и то же время напоминали и тощих коров фараоновского сна, и зеленый камыш, среди которого египетский царь увидел их пасущимися.
Хозяйка усадила меня около себя. Едва я успел усесться, как отворилась одна из боковых дверей, и в комнату влетела, словно несомая ветром, молодая девушка лет девятнадцати.
– Моя старшая дочь Акулина Терентьевна, – представила мне ее мадам Гензеншмальц.
Я встал, чтобы протянуть руку вошедшей, но сделал это так неловко, что несколько чашек чая покатились на подол хозяйки, а оттуда с отчаянным треском на паркет. Я до того смешался, что вместо протянутой руки молодой девушки взял мокрую тряпку из рук прибежавшей бонны. Эта маленькая неприятность заставила хозяйку на время удалиться, чтобы переменить платье. Я успел пока успокоиться и стал осматривать все кругом, между прочим, и старшую дочь хозяйки. Если младшие дети напоминали сон фараона, то старшая дочка напоминала его толкование. Глядя на нее, можно было подумать, что она родилась и выросла во время семилетнего египетского голода, до того она была худа и бледна. Но пара блестящих огненных глаз с каким-то болезненно-грустным оттенком невольно приковала меня к этому существу.
– Не правда ли, странное у меня имя? – обратилась ко мне девушка. – Это приятель мамаши его выдумал и всем нам он выдумал, имена. Я даже плакала и просила, чтобы на другое переменили, но мамаша ни за что. Что скажет Трофим Иванович Взятов, то все должны слушать.
При этих словах появилась хозяйка.
– Даже при мамаше скажу, – продолжала молодая девушка. – Да, хоть сердитесь, мамаша, и это все правда. Я его переносить не могла, этого скота. Придет, нажрется, как свинья, и начнет строить мамаше комплименты, что она совсем на жидовку не похожа, что все жиды паршивцы, что он бы их всех перерезал и оставил бы только одну мадам Гензеншмальц. А мамаша слушает и заливается. И сколько он денег перебрал у нас! А потом еще сам, скотина, явился объявить нам, что нам через восемь дней надо оставить Москву; когда же мы к тому времени не успели выбраться, он велел нам сказать через городового, что ему придется употребить силу.
– Что это ты такие глупости рассказываешь, – с трудом удерживая гнев, остановила увлекшуюся девушку мать. – Ведь гостю это вовсе неинтересно.
– О, напротив того, очень, очень интересно, – поспешил я поддержать замешавшуюся хозяйскую дочь.
– Я знаю, что вам интересно, мне о вас тут рассказывали; вот поэтому я и решилась сказать вам все, хоть бы мамаша и говорить со мной перестала после этого. Знаете, в тот день, когда несколько городовых с квартальным во главе торопили нас поскорее убраться, этот Взятов еще имел бесстыдство явиться к мамаше и попросить у нее тысячу рублей взаймы, причем рассказывал, что все время хлопотал за нас. И мамаша дала. А когда накануне явилось несколько еврейских женщин, которых тоже выгоняли из Москвы с семействами, и просили хоть на хлеб в дорогу, мамаша велела горничной сказать, что...
– Что же ты мне сделаешь, когда я терпеть не могу жидов, – вся раскрасневшись, перебила ее своим хриплым басом мадам Гензеншмальц. – Из-за них мне никогда покою нет. Нельзя улицы пройти без того, чтобы все не указывали: жидовка, жидовка. Из-за этих жидов и из Москвы нас выгнали. А там у нас такое хорошее, все благородное общество было.
– Все пристава и квартальные надзиратели, – желчно заметила дочь. А потом продолжала, обращаясь ко мне:
– Уж я вам все расскажу. Знаете, когда два года тому назад во многих городах евреи устраивали посты, меня мама ни за что не хотела пускать в синагогу, и когда я все-таки туда пошла с моим учителем-студентом, она этому последнему отказала от урока. Но этого еще мало. В этот вечер она нарочно устроила бал и созвала все свое благородное общество, т.е., всех приставов и квартальных. И еще какой бал! Он обошелся в тысячу пятьсот рублей. И все квартальные пили и ели на наш счет в то время, когда десятки тысяч евреев бродили, как тени, голодные, без приюта, среди степей, словно травленые звери.
– Это низко и позорно, мама! – закончила молодая девушка. <…>

Я, как угорелый, пустился бежать. Взятов, празднующие квартальные, фермуар с огромным бриллиантом – все это предстало предо мною одним огромным бесконечным болотом, где копошится целый рой отвратительных гадливых тварей. И словно спасаясь от этих омерзительных гадов, так назойливо меня преследовавших, я шагал все быстрее и быстрее. Наконец, я очутился на набережной и там присел на каменной скамеечке. Тихо, спокойно стояло озеро, и миллионами разноцветных бриллиантов отражались звезды в его темных водах; каким-то сказочным царством глядели на горизонте снежные горы, очертания которых еле можно было различить в ночной темноте. И над всем этим необъятное небо, во всей своей величавой красоте, со всем своим вечно прекрасным звездным царством, погруженным в тихое мирное созерцание.
«Так вот оно, это пробуждение, – думалось мне, – вот что приобрели мы ценою столько пролитой крови, столько загубленных жизней. Где, в каком углу земного шара не раздается теперь стон русского еврея? <…> Нет, не там наши враги, где мы их ищем. Никто не сделал нам столько зла, как мы сами. Как мелки и ничтожны оказались наши душонки в самый страшный момент народного мученичества! Где хоть один подвиг, что совершали мы, хоть одна жертва, что принесли мы! Ах, как это позорно и низко!»
И все звезды замигали, и поверхность озера волновалась, и мне казалось, что и они повторяли за мною:
Как это позорно и низко!
Женева, 1883
Из книги «Как реб Хаим-Шулим Фейгис
путешествовал из Кишинева в Одессу»
Осип Рабинович
«Так вот она, Одесса-то, – подумал реб Хаим-Шулим, когда они, проехав Молдаванку, стали приближаться к главным улицам. – У-ва, славный город! Жаль только, что народ ходит по бокам, не посреди улиц, – красивее было бы, и что деревья мешают видеть, кто у окна сидит и чем занимается».
Ах, это было счастливое время, почтенные читатели мои, когда по нашим тротуарам еще можно было безопасно ходить, а на наших улицах красовались густые акации!
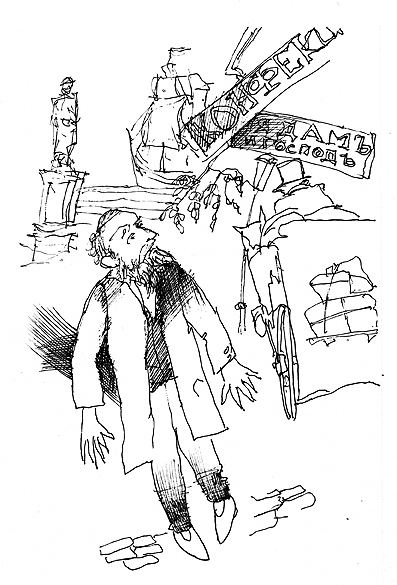
В это время процветала в Одессе гостиница для приезжих, которой слава распространялась до самых Брод, и которую содержал некто реб Шлоймэ, по прозванию Девичья-Кожа. Тут-то в уютной комнате и водворился реб Хаим-Шулим, сначала несколько огорченный тем, что не было никакой суматохи при его приезде, как будто об нем никто и знать ничего не хотел. Но потом, когда вошел поэтически-долговязый и живописно-растрепанный слуга и стал спрашивать его приказаний, он несколько утешился.
«Ишь ты, – подумал наш герой, – сейчас видно, что народ тонкий: ведь мешурес3 , не более, а тоже себе мохнатый и с огромным бантом у галстука».
– Ты, любезный, служи мне хорошо, – сказал он слуге, – а я тебе уже при отъезде пару талеров на водку брошу. На первый раз, кликни биржевую бриченку, – поеду осматривать город: я здесь недолго пробуду.
Прежде всего он велел везти себя на бульвар. Доехав до монумента, реб Хаим-Шулим, не слезая с бриченки, внимательно его осмотрел. «Да, Дюк действительно стоит», – сказал он про себя тихо, слез и стал на бульварной лестнице. Вперив глаза в гавань, усеянную мачтами, он опять произнес шепотом: «Да, корабли настоящие». Он велел себя везти на Пересыпь, где, слезши с бриченки и подошедши осторожно к морю, он оглянулся кругом беспокойным взором, погрузил указательный палец в море и потом поднес его к языку. «Да, вода горькая», – сказал он самому себе. Оттуда поехал он на Новый базар, пошлялся между фурами и опять сказал себе: «Да, действительно всякого хлеба тьма-тьмущая». Оттуда поехал он на Старый базар, воздал должную дань толчку, купив поношенную зеленую шаль, в последний раз прошептал: «Да, торговля знатная» – и приказал ехать на квартиру, совершенно успокоенный насчет нахождения в вожделенной исправности всех достопримечательностей города.
...
В то время в Одессе было порто-франко. Тогда все было дешевле теперешнего. Каждый приезжий старался вывезти что-нибудь из Одессы, потому что город, ревниво охраняемый таможнями, заключал в себе все иностранные предметы, которые за чертою считались невидалью и получали высокое достоинство. Вывозить без пошлины – это была главная задача всякого приезжего. Способы вывоза были различные. Один из самых простых способов был следующий: в карман брались всякие безделицы, надевались разные новые принадлежности туалета, приглашался Одесский знакомец, тоже нагруженный разным хламом, и с ним вместе отправлялись за таможню будто бы для какого-нибудь дела: за таможнею были и дома, и базары, и разная деятельность. Там уже находилась добрая душа, у которой вещи выгружались; и когда хозяин их совсем собрался к отъезду, то он, благополучно минув таможню, подъезжал к дому доброй души, уплачивал ей за ее доброту и получал свое добро обратно. Разумеется, что иной раз эти частые катанья на биржевых извозчиках, уплата вознагражден
ия, нередко утрата самих вещей обходились так дорого, что гораздо выгоднее было бы заплатить даже двойные пошлины; но уж такова натура у людей:
«Запретный плод им подавай,
А без того им рай не в рай!»
Менахем-мендл
(фрагменты)
Шолом-Алейхем
Главное забыл! Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем? Так пишу тебе, жена моя, что я и сам не знаю, на каком я свете. Одесса – огромный город, все здесь очень дорого, дома высоченные – до небес, полчаса надо карабкаться по железным лестницам, пока доберешься до своего пристанища под, самым небом. Окошечко крошечное, как в тюрьме. Я просто оживаю, когда наступает день и можно вырваться из этой тюрьмы туда, на Греческую. И вот там, на ходу, то есть, и перекусишь, что Б-г пошлет, потому что – кто это может усесться кушать, когда надо поминутно узнавать, каковы курсы в Берлине! Зато фрукты здесь нипочем. Виноград едят, не как у вас в Касриловке в Новый год, только чтобы сотворить молитву над ним, – здесь его едят каждый день, на улице, без всякого стеснения.
Тот же
Главное забыл! У нас в Одессе страшная жара, – изжариться можно, да и по ночам таешь как воск. Поэтому как только наступает вечер, город пустеет.
Народ разъезжается на Фонтаны – на Большой Фонтан или на Малый Фонтан, а то и вовсе на «Ланджерон». Там имеется все, что душе угодно, можно купаться в море, можно слушать музыку – и все это бесплатно, без копейки денег!
Тот же
Главное забыл! Сутолока здесь, не сглазить бы, очень велика, и люди так поглощены делами, что забывают о субботе и о празднике. Для меня, конечно, суббота – это суббота! Хоть бы камни с неба валились, я в субботу непременно иду в синагогу. Одесскую синагогу стоит посмотреть! Во-первых, она называется «хоральной», потому что потолок у нее колпаком, а особой восточной стены там нет. Все сидят лицом к востоку. А кантор (его зовут Пине; ну и кантор!) хоть и бреет бороду, но молитвы знает получше вашего старого верзилы Мойше-Довида! Ты бы видела, что он вытворяет, когда доходит до молитвы «Да будет благословенно имя Владыки Вселенной!». «Хвалебную песнь субботе» можно по билетам слушать! Вокруг кантора стоят певчие в маленьких талесах – красота! Если бы суббота бывала дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил слушать Пине. Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться? И даже те, что ходят, не молятся. Сидят, как намалеванные, в цилиндрах, с жирными холеными рожами, в маленьких талесах и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было. Странные в Одессе евреи!
Тот же.
Шейне-Шейндл из Касриловки – своему мужу в Одессу
Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!
Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Б-гу, вполне здоровы. Дай Б-г и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.
А во-вторых, пишу я тебе: дурья голова, подумай, что ты натворил! Какой черт понес тебя в Одессу? Чего ты там не видал? Жареных рябчиков ему захотелось! «Лондон»! Мороженого! Бурды с лакрицей! Увидал, что «Лондон» банкротится, чего же ты вовремя не покончил с ним, согласился бы на какой-нибудь процент, как все купцы поступают! А люди где? А раввин? Г-споди Б-же мой, что это за отговорка – «ультимо-шмультимо»? Ведь ты покупал товар – куда же он девался?! Б-же мой, какое несчастье! Чуяло мое сердце, что от Одессы – сгореть бы ей! –добра не будет! Я пишу ему: уезжай Мендл, плюнь на них с их «Лондоном», чтоб его холера забрала, Г-споди милосердый! Удирай, – говорю я ему,– удирай, Мендл! <…>
А насчет того, что ты говоришь о смерти, умник мой, то должна тебе сказать, что ты большой дурак: не по своей воле человек родится, не по своей воле и умирает. А если даже потеряно приданое, так ничего больше не остается, как руки на себя наложить? Глупый! Где это сказано, что Менахем-Мендл должен иметь деньги? Разве с деньгами Менахем-Мендл не тот же Менахем-Мендл, что и без денег? Чудак! Против Б-га хочешь идти? Ты же видишь, что он не велит, чего же ты ерепенишься? Черт с ними, с деньгами! Пусть тебе кажется, что разбойники напали на тебя в лесу, или ты заболел и все приданое просадил ко всем чертям! Главное, не будь бабой, Мендл! Положись на Предвечного, Он – всех кормящий и насыщающий. Приезжай домой – гостем будешь, дети тебя заждались... Посылаю тебе несколько рублей на дорогу и смотри, Мендл, не ходи ни на какие «лестации» и не торгуй старым тряпьем! Этого еще не хватало! Как только получишь мое письмо и деньги, немедленно распрощайся с Одессой. А как только ты выедешь из города, пусть он загорится со всех четырех сторон, пусть он горит и пылает, и сгорит дотла, как желает тебе от всего сердца
твоя истинно преданная супруга Шейне-Шейндл.
Рисунки Алексея Коциевского
Сайт создан и поддерживается
Клубом Еврейского Студента
Международного Еврейского Общинного Центра
«Мигдаль»
![]() .
.
Адрес:
г. Одесса,
ул. Малая Арнаутская, 46-а.
Тел.:
(+38 048) 770-18-69,
(+38 048) 770-18-61.